

Главное меню
Вы здесь
Дедушкины сказки
Ставим баню. Нижние венцы смолим. Смола кипит в старом тазу. Смотрю на пузыри и жалею грешников — каково им? Для пробы сую палец в таз и скатываюсь к Березовке:
— А-а-а!
— Ах! — Бабушка бежит в дом, ругая меня угланом, что, очевидно, должно означать уголовника. Возвращается с пузырьком, капает на палец, приговаривает: «У сороки боли, у вороны боли, у сыча всех шибча, а у Васеньки заживи»,— обвязывает тряпочкой.— Терпи, сам виноват.
Терплю. Грешникам хуже.
Мое дело глядеть за костром. Подкладываю под таз полено и от нечего делать кидаю в речку камешки.
Березовка течет вдоль темных ельников, светлых березничков между гор, по каменистому руслу торопливо, будто хочет вырваться из тесноты на простор. Вода в ней даже в разгар лета обжигающе холодна и так прозрачна, что плесни ее на камень — и, кажется, зазвенит она осколками.
Если посмотреть с обрыва, что неподалеку, можно увидеть хариусов. Булькнет в воде камешек, сорвавшийся из-под ноги,— сверкнут стремительные рыбки. Я пробовал их поймать, но пока не удавалось.
Дым стелется над речкой. Пахнет смолой. Дедушка уносит таз. Полено не успело сгореть. Сталкиваю его в речку. Подхваченная течением, головня густо дымит, превращается в ледокол «Красин». На перекате ледокол терпит бедствие, и я спешу на выручку. Пришлось свернуть — на большой льдине копошились люди. Ура, Папанин!..
— Эй, папанин-маманин,— зовет бабушка,— айда за Рыжкой.
Идем лугом. Рыжка поднимает голову, вострит уши. Бабушка накидывает оброть, поправляет очельник, снимает путы и подсаживает меня на Рыжкину спину. Вверху красота — далеко видно. Чмокаю по-дедушкиному: «Н-но, самурай!»
Конь косит глазом. Трава пестрит белой ромашкой, голубым цикорием, золотистым крапом куриной слепоты. В голове перемешались «Красин», Чкалов, Папанин, о которых много говорят ночующие у нас охотники. Натягиваю повод.
— Стой, стой! Куда ты? — беспокоится бабушка.
Меня охватывает состояние восторга, поддаю пятками, и Рыжка переходит на рысь.
— Убьешься! Тпру...
Конь выскакивает на дорогу. Стучат копыта о камни. Лечу вдоль речки, мимо дома, затухшего костра, мимо кучи бревен. От жути захватывает дух. Меня подкидывает и подвигает потихоньку вперед. Уж чувствую, как ходят подо мной лопатки, горизонт поднимается и падает. Сползаю на шею и в страхе хватаюсь за гриву. Рыжка останавливается, опускает голову, и я оказываюсь на земле. Бабушка выбегает из-за поворота — платок слетел, волосы растрепаны, тяжело дышит.
— Облезьян!
Я молчу.
— Что рыло-то дудкой вытянул? Садись, — и подсаживает.
Снова еду верхом, только теперь бабушка держит Рыжку в поводу.
— Видал?— жалуется деду.
— Гляди ты! — Дедушка вытирает подолом рубахи лоб.— А я думал, Чапаев летит. Видно, мать, большой он у нас стал, пусть мох едет драть. Что глядишь? Запрягай.
Стаскиваю в кучу сбрую, хомут, дугу. Подвожу к телеге Рыжку, кое-как поднимаю хомут, но надеть его не могу. — Слабо? — смеется дедушка.— Придется подрасти.— И, прикрыв глаза от солнышка, глядит в небо.
Там рокочет самолет.
— Чкалов летит?
— Отсюда не видать. Самолет скрывается.
— Я тоже летчиком буду.
— Слышь, мать, Васька-то наш в летшики захотел.
— Не возьмут его, озорует много,— отвечает бабушка.
— Я не буду озоровать.
— Только что если не будешь, — отзывается дедушка.— А как запишут, прокатишь нас?
Он часто рассказывал о Сибири, где воевал с белыми. Мне Сибирь представлялась ровным местом без конца и края, и если ехать по ней, то лошадь состарится, так и не дойдет. А совсем далеко, на самом краю, есть, как говорит дедушка, город Хабаровске.
— Я вас в Хабаровске повезу.
— Эва! Сперва бы хоть к Татьяне в Карабаш прокатил. Тетя Таня, старшая дедушкина дочь, вышла замуж за дядю Егора и уехала с ним в Карабаш, на медеплавильный завод. У них есть сын Витя, мой сродный брат, он уже учится в школе.
— Ладно,— соглашаюсь,— только ненадолго.
— Попьем чаю — и обратно А не возьмешь ли меня кочегаром? Я бы уголь в топку кидал, чай кипятил бы. Эхма,— и скребет в затылке,— лом бы не забыть взять.
— Зачем?
— Там, сказывают, стужа — лед намерзает, скалывать надо...
Едем по мох. Дедушка рассказывает сказку: «Раньше, как только человеку выходило семьдесят лет, его убивали. Доживали старик со старухой последнюю ночь, под утро старуха будит: «Слышь, старый, у меня сын родился». Повернулся старик на другой бок и забылся. А старуха опять трясет: «Старик, у меня дочь». Тут уж не до сна стало. Назвали сына Ванюшкой, а дочь Машенькой, погоревали, и отнес старик младенцев, подвесил на березе возле дороги. Натакается добрый человек — их счастье.
Бежал по дороге Черт, увидел ребятишек, снял с березы, унес к себе и стал поить-кормить. Прошло сколь надо времени, выросли брат с сестрой, лицом чисты — цветочки будто. Задумал Черт жениться, а брата извести. Положил ему под подушку свой зуб. Утром не встает Ваня, Машенька — горевать: помер братец. Черт оборотился красавцем и стал уговаривать ее идти за него замуж.
Неподалеку на мельнице жил чертов брат, так у него всю ночь собака вот воет, вот воет. Отпустил он ее — кинулась, вытащила зуб из-под подушки и пала замертво, а брат проснулся. Поняла Машенька чертовы проделки, и решились они бежать. Чертов брат взялся помогать им: дал платок, гребень да мыла печатку...»
Дедушка передает вожжи, достает кисет, отрывает полоску от газеты, навертывает на палец, вытягивает и сгибает в «козью ножку». Синей куделей тянется за телегой дым. Брякает привязанное сзади ведро, скрипит на выбоинах телега. Дедушка берет вожжи.
— Дал, стало быть, им чертов брат платок, гребень да мыла печатку...
— Нет,— протестую я,— дал он им самолет. — А ведь верно! И они улетели в Хабаровско.
— Черт-от сперва бежал, а потом плюнул.
— Вот-вот, плюнул и давай с досады по земле кататься.
Где ему за самолетом-то, старому да хромому...
Свертываем в болото. Тонкие пихты и ели стоят вкривь и вкось. Позеленевшей меди стволы голы почти до самого верха, на сучьях — пряжей лишайники. Под ногой мох, усеянный хвоей, в солнечных пятнах. На кочках кое-где кустики белобокой ягоды.
— Сиди тут, ешь брусницу.
Дед разувается, подвертывает штанины, утопает в зыбуне и начинает казаться мне добрым чертовым братом.
Где-то тут Сыч, он по ночам кричит, людей пугает. Востроносый, тонконогий Хохлик меж стволов скрипит, Отяпа возле болотных кочек — не вдруг увидишь. Таратунка мохнатая рыжая — летом в огороде живет, чтобы малые ребята гороховые плющатки да огурцы-опупышки не рвали, а как поспеют — в болото уходит. Трясовица-лихоманка остроголовых лешенят пасет — тринадцать их тут,— скачут, из кузовочков листочки красные да желтые по лесу раскидывают, грибников заманивают.
Вот возьмет дед да и расколдует это место, и появятся Ваня с Машенькой, а Рыжка превратится в самолет, и все мы полетим далеко-далеко.
Ягода кислая. Дедушка дерет мох, носит в охапке, укладывает в телеге. Я помогаю, но, должно быть, больше мешаюсь под ногами, и он советует есть брусницу. Наконец, довольный, он оглядывает поклажу:
— Ну, будет.
Я бухаюсь во влажную мякоть мха. Подсаживается дед, подбирает вожжи:
— Трогай, самурай.
— Дедушко, а, дедушко,— трясу за рукав.
— А?
— Давай поговорим еще.
— Об чем?
— Об чем говорили.
— Давай поговорим...
Вечерние лучи прокалывают ельник. Скрипит по ухабам телега, остается за нею дымок. Пахнет теплой сыростью мха.
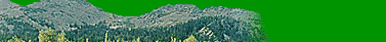


Комментарии
Рассказ очень понравился!
спасибо огромное
Ура это же лололошка